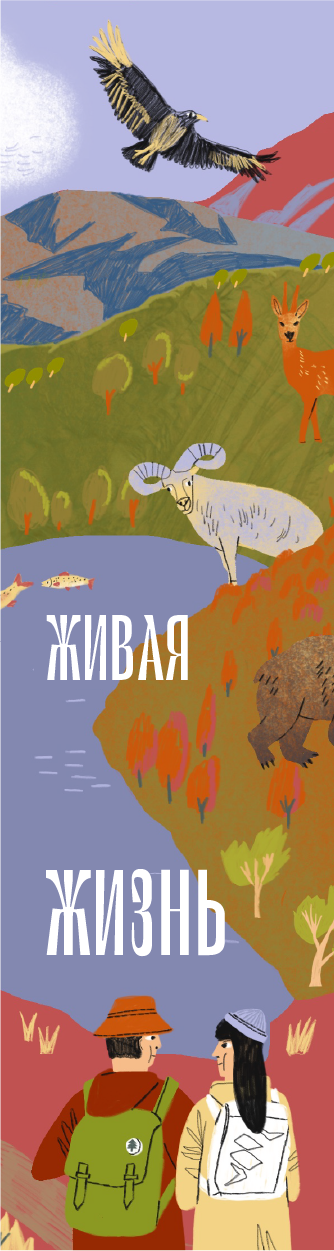На фестиваль Мстислава Ростроповича в Баку Юрий Темирканов прибыл со своим легендарным коллективом – Академическим симфоническим оркестром Санкт-петербургской филармонии, который маэстро возглавляет уже четверть века.
Юрий Темирканов входит в плеяду лучших дирижеров планеты. В списке всемирно известных оркестров, с которыми он сотрудничал, в том числе как главный приглашенный дирижер, – Лондонский королевский филармонический, Дрезденский филармонический, Балтиморский симфонический и Национальный симфонический оркестр датского радио. С 2009 года Темирканов – музыкальный директор Королевского театра Пармы; уже более десяти лет он возглавляет Международный зимний фестиваль «Площадь искусств». С именем маэстро связано возрождение Мариинского театра, где он 12 лет был художественным руководителем.
БАКУ: Юрий Хатуевич, в одном из интервью вы сказали, что дирижирование – профессия второй половины жизни. Можно об этом чуть подробнее?
Юрий Темирканов: Среди молодых дирижеров существует заблуждение, что профессия заключается в том, чтобы искусно показывать ритм, акценты, штрихи... Большинство так до конца и делают. Но со временем, когда набираешься опыта, понимаешь, что это капельмейстерская работа, которая к дирижированию не имеет никакого отношения. Главное – понять, что музыка таится не столько в испещряющих партитуру черных значках, сколько в незаполненном ими белом пространстве. Профессия дирижера в чем-то сходна с занятием Шерлока Холмса. За нотами и условными значками, которые ничего не значат, нужно отгадать состояние и чувства того гения, который это написал. Если удалось угадать, что находится за нотами, если сумел заставить оркестр произносить смысл написанного, тогда ты – дирижер.
БАКУ: Мне еще понравилась ваша фраза: «Дирижер должен быть хитер настолько, чтобы убедить оркестрантов, что они не просто звуковоспроизводители, а соучастники, единомышленники и сотворцы дирижера».
Ю.Т.: Дело в том, что музыканты, выбравшие профессию оркестранта, постепенно перестают относиться к ней как к призванию и становятся работниками. И тут важно суметь разбудить их желание музицировать и участвовать; не просто звуки произносить, а участвовать, понимать, что они хотят сказать. Вся сложность заключается в том, что тут не существует универсального способа – в каждой ситуации надо искать индивидуальный подход. Вот этим отличается хороший дирижер от плохого: хорош тот, кто умеет сделать из музыкантов оркестра идеалистов. Чтобы не думали, какая у них зарплата, не думали, что в семье школьник опять двойку получил, а поднялись над суетой и стали вновь артистами.
БАКУ: Что для вас свобода?
Ю.Т.: Свобода – это, наверное, возможность жить, не оглядываясь. Думать, имея право не оглядываться, делать что хочется, жить там, где хочется, и говорить то, что хочется. Хотя совершенной свободы не бывает. Я понимаю, что мы всегда зависим от общества и жизненных обстоятельств. Но степенью собственной свободы каждый распоряжается сам.
«Хорош тот, кто умеет сделать из музыкантов оркестра идеалистов»
БАКУ: Случались ли моменты в жизни, когда вы позволяли дирижировать собой?
Ю.Т.: Вот этого я никому не позволяю и не умею это терпеть. Потому что я черкес.
БАКУ: Даже в семье?
Ю.Т.: Сейчас у меня нет семьи. Но когда была, я все-таки был черкес. Это генетика, а не мое желание.
БАКУ: На каком языке говорили у вас дома?
Ю.Т.: На кабардинском. Мама до конца жизни с трудом говорила на русском. Я же, приезжая в Нальчик, обязательно общаюсь с родственниками по-кабардински. Люблю вспоминать притчу Расула Гамзатова из его книги «Мой Дагестан». После войны он встретился в Париже с дагестанцем, которого на родине считали погибшим. Вернувшись домой, рассказал родственникам этого человека, что тот жив. А мать его спросила: «Расул, как ты разговаривал с моим сыном?» Гамзатов ответил: «У нас был переводчик». Она заплакала и сказала: «Значит, правда, что он погиб». Красивая притча, правда? У каждой личности есть своя среда обитания – она формируется языком, генетикой, культурными традициями и, конечно, внутренним миром.
БАКУ: Ваше детство пришлось на суровые послевоенные годы. Я помню, как остро прозвучали в одной из передач ваши слова «я хотел бы отомстить за свое детство»…
Ю.Т.: Да… и это нормально. С другой стороны, как в народе говорят, нет худа без добра. Человек, который прошел такое детство, такой путь, потом всю жизнь гораздо проще относится к успехам, наградам и деньгам, чем тот, кто не знает, почем фунт лиха.
БАКУ: В этом ли секрет успешности?
Ю.Т.: Здесь не может быть однозначного ответа. Что касается меня, я делаю карьеру тем, что не делаю ее. Конечно, когда-то в молодости я стремился «завоевывать медали», но это было давно. Теперь я чаще всего отказываюсь от интервью и практически не выступаю на телевидении. Хотя иногда все-таки вынужден это делать, поскольку руковожу коллективом. Приходится идти на компромисс с собой. Пушкин сказал замечательное: «Служенье муз не терпит суеты». А он никогда не ошибался, потому что был не поэтом, а пророком. Его слова должны быть законом для любого относящегося к себе с уважением артиста. Законом, которому необходимо следовать всю жизнь.
БАКУ: Трудно творческому человеку быть руководителем?
Ю.Т.: Очень. Это вообще трудно – решать судьбы людей. Трудно и опасно. Те, кто этого не понимает, не должны руководить людьми. Ведь от тебя зависит жизнь людей, у которых дети, семьи. В каких-то случаях понимаешь, что история мирового тромбонизма не пострадает, если ты одного будешь терпеть в оркестре. Вы знаете, когда я стал дирижировать оркестром, ко мне приехала моя мама, полуграмотная женщина; она посмотрела на все это и сказала: «Сынок, ты стал большим начальником. Не обижай людей». Я об этом всегда помню. С другой стороны, надо быть решительным, потому что это политика и на тебе лежит колоссальная ответственность за завтрашний день.
БАКУ: Вас легко обидеть?
Ю.Т.: Очень легко. Причем я всегда теряюсь, когда сталкиваюсь с хамством.
БАКУ: Мы часто слышим о том, что уходит век лидеров. Широко известны размышления композитора Владимира Мартынова о закате композиторской эпохи, теперь уже и ваши – о том, что опера как жанр гибнет…
Ю.Т.: Ну, не только опера гибнет, я думаю, что культура в целом погибает. Мы проходим определенный исторический виток. До недавних пор считалось, что цивилизация развивалась по Дарвину, от культуры Древней Греции и Древнего Рима по восходящей к нашему времени. Сейчас же ученые пришли к выводу, что люди задолго до древнегреческого периода обладали гораздо большими знаниями. Значит, в истории человеческой цивилизации периоды одичания сменяли периоды возрождения. Понимаете, сейчас в мире происходит процесс одичания. Потому жанры культуры гибнут. И это не старческое брюзжание «вот в наше время все было лучше». Каждый жанр искусства имеет свои законы. Какова идея музыкального искусства? Музыка должна быть обращена в первую очередь к душе, а потом к разуму. Сейчас музыку стали не сочинять, а изобретать. Она обращается к разуму, тем самым нарушая основной закон. Если музыка не обращается к душе, то это не музыка, это уже другой жанр. Если балет не воспевает красоту человеческого тела, если в нем пытаются ногами доказывать, что социализм лучше капитализма, то это уже не балет, а другой жанр. Вот в чем дело. И то же самое в литературе, в живописи. Кризис во всех областях.
«Музыка таится не столько в испещряющих партитуру черных значках, сколько в незаполненном ими белом пространстве»
БАКУ: Как вы думаете, кризис можно преодолеть, если вовлекать молодое поколение в сферу искусства?
Ю.Т.: Я не знаю, где правильный путь и есть ли он вообще, но точно знаю, что не надо вовлекать массы. Музыка ведь предназначена не для народа, а для избранных. Чем дальше человек уходит от обезьяны, тем более высокая культура ему нужна. Такие люди, к сожалению, составляют очень маленькую часть человечества. Коммунистический лозунг «искусство для народа» – всего лишь сказка. Красивая, но сказка. Высокую культуру может «прочесть» только избранная часть. На самом деле все человечество тянут за шиворот в будущее выдающиеся люди, а оно при этом сопротивляется, потому что ему нужно что-нибудь попримитивнее, что будит низкие инстинкты и не дает пищу для размышлений. Потому первостепенной задачей служителей искусства является защита той части человечества, что является Homo sapiens, от регресса. То, чем мы занимаемся, на самом деле не что иное, как строительство баррикад, защищающих Homo sapiens от возврата в обезьяньи шкуры.
БАКУ: Мир спасет красота?
Ю.Т.: Скорее память и сохранение культуры. Что отличает каждого из нас от остального мира? Культура – вот самое ценное, что необходимо беречь и лелеять. Знаете, я пошел сегодня в музей Ниязи и порадовался за азербайджанский народ, умеющий сохранять свое прошлое. И вновь процитирую Пушкина: «Первый признак дикости народа – не помнить свое прошлое». Память свидетельствует об очень многом. Я проехался вчера по Баку, увидел тщательно ухоженный Старый город, увидел очень много памятников музыкантам и поэтам. И это первый признак возрождения нации.
БАКУ: Вы были дружны с Мстиславом Ростроповичем?
Ю.Т.: Говорят, когда великий человек умирает, у него сразу оказывается много-много друзей. Но у нас на самом деле были прекрасные отношения. И это могут сказать многие, потому что Слава умел дружить. Да, я дружил с ним много лет, мы много играли вместе… Я даже с Ниязи был знаком, но, к сожалению, очень кратко, когда он дирижировал в Петербурге. Когда мы зашли сегодня в музей, я взглянул на фотографии с музыкантами, развешанные на стенах, и стало страшно оттого, что половина этих людей – мои знакомые!

«Степенью собственной свободы каждый распоряжается сам»